«СВЕЖИЙ КАВАЛЕР» КАПИТАНА ФЕДОТОВА О ЧЁМ МОЛЧИТ ИЗВЕСТНАЯ КАРТИНА
 |
|
П. А. Федотов. |
(к 210летию со дня рождения П.А. Федотова)
«— О каком чиновнике вы хотите говорить? Мы все чиновники — от действительного тайного советника первого класса до чиновника четырнадцатого класса, от вельможи, князя, графа и богача до личного дворянина, живущего одним жалованьем. Чиновник — слово неопределённое…»
Ф.В. Булгарин. «Дурные времена: очерки русских нравов. Чиновник»
Эту картину знают все.
«Свежий кавалер». Или «Утро чиновника, получившего первый крестик». Или «Последствия пирушки»…
Более полутора веков назад Павел Андреевич Федотов своей талантливой кистью изобразил чиновника, «обмывавшего» свой первый орден — босоногий кавалер, оттопырив нижнюю губу, запахнулся в халат наподобие римской тоги, а его указующий перст упирается в новенькую награду: образ, безусловно, комедийный. Торжественность фигуры явно диссонирует с убогостью окружающего интерьера. Но что ещё может увидеть современный зритель на этой небольшой, но насыщенной деталями картине? Что за орден получил этот человек? Почему он стоит перед кухаркой в позе античного триумфатора? Если он чиновник, то по какому ведомству он служит и в каком чине находится (или, как тогда говорили, обретается)? И почему у него на столе лежит газета «[Ве]домости [???]кой полиции»? Что мы вообще о нём знаем или, точнее, что мы можем о нём узнать, глядя на полотно?
1. Капитан Лейб-гвардии Финляндского полка
 |
|
1-й Московский кадетский корпус. |
 |
|
Освящение полковых знамён |
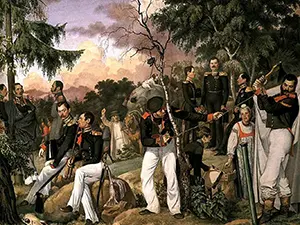 |
|
Бивуак лейбгвардии Гренадёрского полка. |
 |
|
Рисунок |
Будущий художник Павел Андреевич Федотов появился на свет в Москве 210 лет назад — 22 июня (4 июля) 1815 года в семье небогатого чиновника Андрея Илларионовича Федотова, который начал службу в армии рядовым, измерил солдатскими сапогами долгие вёрсты суворовских переходов, честной службой и отвагой выслужил себе офицерский чин и вышел в отставку поручиком; осел в Первопрестольной, перешёл в статскую службу и в царствование государыни-матушки Екатерины II ушёл на покой в скромном чине титулярного советника. Вторая супруга (первую жену-турчанку призвал к себе Господь) подарила ему сына, которого крестили в церкви святого Харитония Исповедника, что в Огородниках у Мясницких ворот (нынешний адрес — Большой Харитоньевский переулок, 13; церковь снесена в 1935 году), и во святом крещении нарекли Павлом. На одиннадцатом году жизни родители определили Павла для прохождения наук в 1-й Московский кадетский корпус. Впоследствии сам Павел Федотов не без свойственной ему иронии напишет об этом в одном из своих стихотворений (он ещё и стихи писал!): «Меня судьба, отец и мать / Назначили маршировать». Способный и старательный мальчишка быстро выделился на общем фоне — в 1830 году он стал унтер-офицером, в
1833-м — фельдфебелем, и в том же году, окончив курс первым учеником (его имя было золотыми буквами занесено на почётную мраморную доску), произведён в прапорщики (в ту пору — первый офицерский чин, по количеству и расположению звёздочек на эполетах и погонах соответствовавший нынешнему младшему лейтенанту) и выпущен в привилегированный Лейб-гвардии Финляндский полк, расквартированный в Санкт-Петербурге.
Столичная полковая жизнь не отвратила молодого офицера от занятий рисованием, к которым он имел тяготение с малолетства. Более того, перед его глазами предстал новый мир, полный ярких образов. Чувствуя недостаток художественного образования, Павел Андреевич в свободное от службы время посещает вечерние рисовальные классы Академии художеств, постигая премудрости изобразительного искусства; дома он рисует однополчан, сценки из полковой жизни — в основном карандашом и акварелью. Говорят, особенно ему удавалась персона шефа полка — Великого князя Михаила Павловича, брата императора Николая I. Стройный и изящный в молодости, его высочество с годами располнел, и потому колоритная фигура Великого князя не могла не обратить на себя внимания склонного к рисованию офицера. А первая крупная акварельная работа художника «Встреча в лагере Лейб-гвардии Финляндского полка Великого князя Михаила Павловича 8 июля 1837 года», изображающая неподдельное ликование гвардейцев, встречающих в Красном Селе вернувшегося из-за границы шефа, произвела на августейшую особу столь глубокое впечатление, что Великий князь пожаловал автору бриллиантовый перстень.
Ободрённый столь высокой (в прямом и переносном смысле) оценкой своего таланта, Федотов берётся за написание новой картины — «Освящение полковых знамён в Зимнем дворце, обновлённом после пожара, 28 марта 1839 года». Картина эта в силу различных обстоятельств останется незаконченной. Живший на одно жалованье, а потому остро нуждавшийся в средствах Павел Андреевич (имевший к тому же на попечении старика-отца и сестру), осмелился представить незавершённую работу Михаилу Павловичу; тот показал её своему царственному брату. Император, любивший батальные полотна и вообще военную тематику, проникся мастерством художника и высочайше повелеть соизволил: «Предоставить рисующему офицеру добровольное право оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 рублей ассигнациями в месяц».
Павел Федотов долго колебался, раздумывая, принять ли императорское благоволение. По всей видимости, основу сомнений составляли причины материального характера: при всей относительности тогдашних финансов 100 рублей ассигнациями (около 25 рублей серебром) — сумма, явно недостаточная для сносной жизни в столице отставного офицера, занимающегося живописью, к тому же обременённого содержанием родни. Тем не менее решение было принято и в 1844 году капитан Федотов вышел в отставку «с мундиром».
Не будем утомлять читателя описанием трудной, практически нищенской жизни отставного капитана Федотова — бедная квартира, холод, а порой и голод стали уделом этого человека… А ещё — работа, рисунки, этюды…
Сначала он пробовал себя в качестве художника-баталиста, ибо военная тематика ему, как офицеру, была близка, да и жанр этот всегда был востребован в России. Он пишет композиции и жанровые сцены: «Бивуак лейб-гвардии Гренадёрского полка. Установка офицерской палатки», «Приход дворцового гренадёра в свою бывшую роту Лейб-гвардии Финляндского полка»; остались в эскизах «Переход егерей вброд через реку на манёврах», «Вечерние увеселения в казармах по случаю полкового праздника», «Французские мародёры в русской деревне в 1812 году» и другие.
Но друзья Павла Федотова больше отмечают его жанровые зарисовки, в которых художник с неизменным юмором и удивительной наблюдательностью фиксирует комические стороны обыденной жизни петербуржцев. Причём это не карикатуры и не шаржи. Рисунки Федотова всегда реалистичны и точны в деталях. Художник рисовал то, что видел дома, в полку, на улице — офицеров, простых горожан всех сословий. Просто глаз его умел видеть забавное в обыденном. Однажды под острый карандаш Павла Андреевича попал некий важный полицейский чин (квартальный надзиратель, частный или следственный пристав), не расплатившийся с извозчиком. Мимолётная уличная сценка легла на бумагу, и до нас дошёл рисунок, подписанный автором «Ах, братец, кошелёк дома забыл…».
То, что рисовалось для забавы, постепенно выходит на первый план, и художник вновь погружается в сомнения, столь свойственные каждому талантливому человеку, — а надо ли ему продолжать изучать мускулатуру лошади и пробовать себя как баталиста. Сомнения разрешил великий баснописец Крылов. Сибарит и чревоугодник, Иван Андреевич дал Федотову совет оставить «солдатиков и лошадок» в пользу бытового жанра. Тот послушался и, быстро освоив технику письма масляными красками, представил на академическую выставку 1849 года три работы, которые не только сделали его известным, но и навсегда внесли его в число лучших художников России, — «Разборчивая невеста» (1848), «Свежий кавалер, или Утро чиновника, получившего первый крест» (1846—1848) и «Сватовство майора» (1849).
Федотов, что называется, проснулся знаменитым. О нём говорили в «обществе», о нём писали газеты, у его картин толпилась восхищённая публика.
Особенной популярностью пользовался «Свежий кавалер». Эту насыщенную деталями картину человек николаевской эпохи читал как газетную страницу — все предметы были ему знакомы, вся символика ясна. По прошествии многих лет реалии того времени истёрлись в народной памяти и для полного понимания картины нужен комментарий. Для этого нам потребуются знания из области двух вспомогательных исторических дисциплин — фалеристики (она изучает ордена, медали и нагрудные знаки), униформологии (предмет её исследований — форменная одежда), а также некоторые исторические экскурсы.
Что ж, приступим…
(Продолжение следует)
Александр ЛОМКИН, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, иллюстрации из открытых источников


